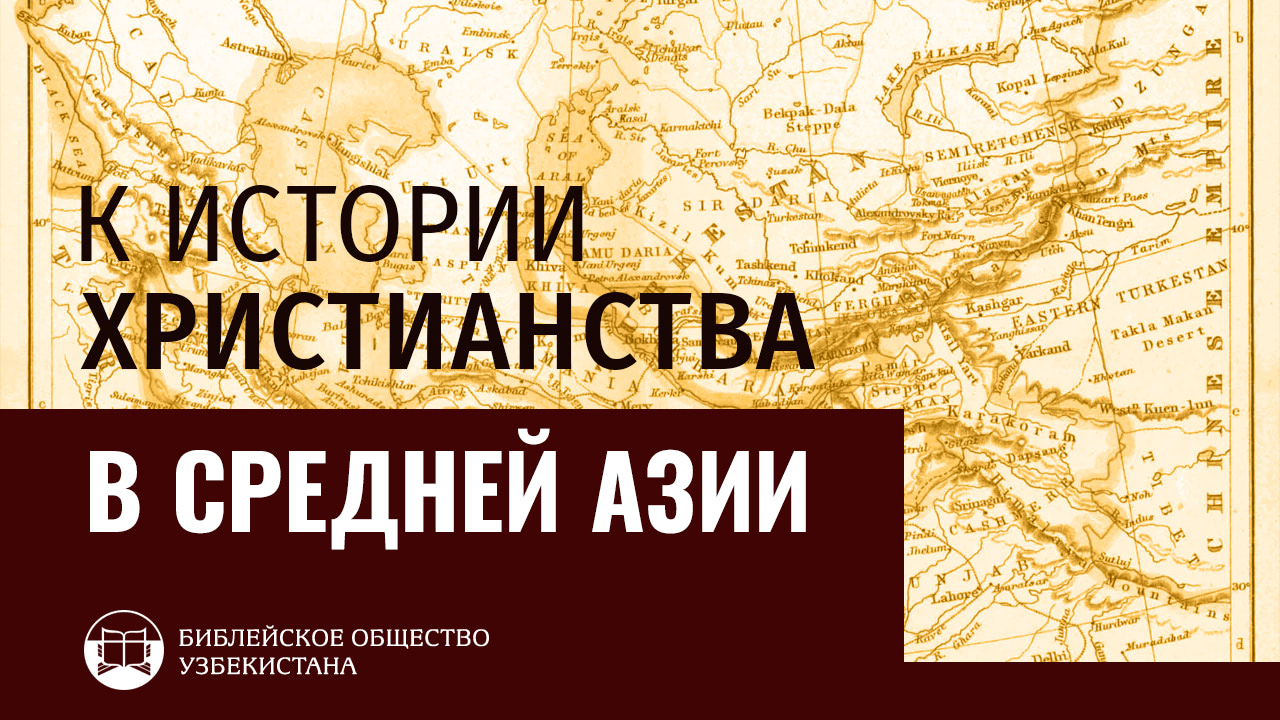
Авторы: Ю.Ф. Буряков, Л.И. Жукова, В.Н. Проскурин
Данный материал был заимствован из сборника материалов «Из истории христианства в Средней Азии (XIX-XX вв.)» (Ташкент, изд. «Узбекистон», 1998 г. Составитель Л.И. Жукова. «Книга издана на средства римско-католического прихода г. Ташкента». ISBN – отсутствует. © Римско-католический приход г. Ташкента; © Издательство «УЗБЕКИСТОН», 1998 г.), С.5-46. Поскольку сборник был сдан в набор в 1997 году, вся фактология и статистические данные соответствуют этой хронологической границе. Текст статьи остался оригинальным. Коррекции подверглись форма ссылочных указателей, а также поправлена пунктуационная грамматика. По некоторым важным фактам и событиям редактор дал свои комментарии в примечаниях. (Протоиерей Сергий Стаценко)
В наше время широкое приобщение научной общественности к духовной культуре породило интерес к истории христианства — к путям его распространения в культурные регионы Запада и Востока, к сведениям о выдающихся носителях духовных идей, о борьбе мнений на различных этапах его развития. Уже в XIX веке в странах Европы, России, в Средней Азии сложились инициативные и научные группы по изучению христианства, его литургической истории, анализу творческого наследия, отношению искусства к церкви и литургическим текстам. Большое внимание уделялось ритуалам и вещественным комплексам церковной символики.
Само изучение духовной культуры и истории христианских народов в условиях широкого религиозного мировоззрения и не могло быть иным, чем церковное. Складывается даже целое направление церковной археологии, лидером которой в Европе был Дж. де Росси, в России — Б.В. Покровский, И.П. Кондаков и другие. На многих съездах Императорской археологической комиссии звучали доклады на христианские темы и анализировался вещественный инвентарь из разных концов Российской империи, включая Туркестанский край [1., С.145-153].
Трагическое положение Церкви в России с 20-х годов нашего столетия привело к упадку и официальной науки о ней, хотя скрытая разработка этой проблематики продолжалась в историографии, археологии, этнографии, истории религии, как части духовной культуры. Сегодня она возрождается вновь.
В 1994 году был издан сборник, посвященный проникновению христианства в регион Средней Азии и Казахстана в первой половине I тыс. н.э. из восточных провинций Римской империи, а затем Византии через Сасанидский Иран. Средняя Азия оказалась доброжелательной обителью и местом встреч многих мировых религий, следы которых сохранились не только в письменных источниках, но и в вещественных памятниках архитектуры и археологии, в нумизматике и памятниках искусства. В нем рассказывалось о древних храмах христиан на широком пространстве от Туркмении на западе до Казахстана на востоке, о редких сохранившихся памятниках христианской символики тех эпох, о благородной и трудной деятельности и миссионеров на Великом шелковом пути [2.].
В наши дни политика стран Центральной Азии, освободившихся от тоталитарной идеологии, направлена на предоставление свободного развития духовной культуры, и в том числе духовных воззрений, всем народам, населяющим эти регионы. Возвращаются храмы и разрешается свободное волеизъявление представителей разных религий. И провозвестники всех христианских конфессий Средней Азии (как и других культов) активно включились в восстановление своей истории.
В качестве примеров можно вспомнить «Слово об истории христианства в Средней Азии в день памяти святого апостола Фомы» архиепископа Ташкентского и Среднеазиатского владыки Владимира [3.]; сборник статей о Евангелическо-лютеранской церкви в Узбекистане [4.]; разделы о христианах-армянах [5.], и многие другие публикации [6.].
В последние годы были получены новые интересные данные по ранним этапам христианства в Средней Азии, в частности, свидетельства о мервcкой общине, первой получившей статус митрополии [7.].
Распространение христианства, сопровождавшееся образованием митрополий, здесь связывается с походами Шапура (с середины III в.) в Сирию, откуда выводится масса расселившихся на окраинах Иранского государства людей, среди которых были и христиане, входившие в состав Восточной церкви. В авторитетных согдийских свидетельствах в числе первых активных деятелей Восточной церкви в Средней Азии упоминается владыка Бар Шаба, который обратил в христианство жену и детей сасанидского шахиншаха Ардашира Сапора. Сосланный из столицы Ирана вместе с царицей в Мерв, он многих здесь излечил и обратил в христианство. Купив землю и воду, построил здесь укрепления, караван-сараи, дома, заложил сады. В местностях Фарес и Бургена, Абаршахра, Серахса, Мерверуда и других центрах он возвел Божьи дома, во всех местах — крепостях и деревнях — поставил пресвитеров, диаконов, чтобы последние заботились о людях и исполняли божественную службу [8.]. В других документах есть сведения о назначенных епископах Мерва. Среди них упоминается Эбидиеэжа, который до этого был епископом Исфагана.
В некоторых источниках среди участников I Вселенского Никейского собора, созванного в 325 году византийским императором Константином I, впервые объявившим христианство государственной религией, назван епископом Мерва Илия. На этом соборе, а затем на Константинопольском, проведенном в 381 году, были приняты основные символы веры христиан, которые, однако, не получили полного распространения на Востоке [9., С.81].
Исследователей всегда будут привлекать первые, слабо сохранившиеся страницы нового страстного учения, увлекавшего страждущих, бедных и угнетенных. По археологическим материалам проникновение христианства в Среднюю Азию относится к III веку н.э., что подтверждается и письменными источниками о функционировании здесь христианских общин. Широкое распространение христианства чаше всего связывается с гонениями на несториан, активно переселявшихся в Иран и сопредельные области Средней Азии. Уже само формирование крупных общин и митрополий к III веку н.э. должно свидетельствовать о большом предварительном процессе проникновения в эти регионы христианства задолго до первой схизмы, связанной с расколом в духовенстве. Этому способствовал сам характер новой религии, обращенной к широким слоям населения, независимо от их социального статуса и экономического состояния. В самых ранних речах проповедников звучала мысль: «Зажегши свечу, не оставляй ее под сосудом, но на подсвечнике, — и свети всем в доме». А в Евангелии от Фомы[1] прямо провозглашалось: «То, что ты услышишь твоим ухом, возвещай это другому уху с ваших кровель. Ибо никто не зажигает светильника (и) не ставит его в тайное место» [10., С.55]. Тождественные мысли разных провозвестников показывают открытость христианского вероучения.
В этом плане больше внимания следует обратить на деяния апостолов, свято исполнявших завет Учителя: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие!». Наиболее трудная миссия выпала на долю «последнего свидетеля Господня» Фомы Близнеца, который был наиболее упорным и которому выпало путешествие в неизведанные страны далеко на Восток. Обычно миссию его связывают со странами индийскими, с браминами Индии [11., С. 21-137]. Но путь его пролегал через земли парфян, гирканцев и бактрийцев, т.е. через Среднюю Азию. И везде на пути он сеял зерна христианства.
И случайно ли могилу апостола Матфея помешают в комплексе армянского монастыря на северо-восточном побережье озера Иссык-Куль в Кыргызстане? С III века н.э. начинается активное проникновение христианства в Среднюю Азию, носившего первоначально характер ортодоксального учения, сторонников которого называли мелькитами. Община мелькитов долгое время сохранялась в северных районах Средней Азии, в частности, в Хорезме. Долг исследователей — найти вещественные следы этих первых общин, предшествующих известным с III века н.э. митрополиям сперва Самарканда, а затем и других крупных центров.
Источники упоминают среди мервских святых Мар Георгиоса Марвазайя, который жил в VI веке и основал христианский монастырь в округе Мерва. Сообщается, что он жил в деревне Зарк (Зирак) в северной округе Мерва в шатре, который сделал сам. Вокруг него собралась община и он построил монастырь со школой и церковь, где был сам погребен. Зарк (Зирак) упоминается ат-Табари в связи со сражением Хариса бин Сурейджа с арабами под Мервом в 734 году.
Это селение отмечает среди пунктов Мервской округи Якуби [12., С.148], а Истахри сообщает, что близ него происходило разделение вод Mypгабa на многочисленные каналы. Около этого пункта в 651 году был убит последний шах Ирана Иездигерд, останки которого были похоронены в специальном наусе мервcким митрополитом [12., С.173-174].
Вот как об этом пишет арабский историк ат-Табари: «Епископ Мерва нашел его, перенес и, завернув его в умащенный мускусом тайласан (длинное полосатое головное покрывало), положил его в гроб, который перенес в Па-и Бабан в нижнем течении Маджана, и поместил в сводчатом здании, где обычно бывали епископские собрания, и замуровал вход» [13., С.29].
Судя по датировке и топографии, монастырь, построенный несторианским монахом Марвазайей, может быть соотнесен с археологическим памятником Хароба Кошук, возведенным в относительно пустынной местности на пути из Мерва в Хорезм в пределах поселения VI -VII веков близ крупного укрепленного строения, связываемою археологами с замком феодала. Археологические исследования свидетельствуют о полном отсутствии в этом месте каких-либо археологических остатков более раннего времени [14., С.126-129]. Не исключено, что с именем святого Мар Георгиоса Марвазайя может быть связано строительство самого замка, именовавшегося в христианских источниках «шатром» [7., С.73-74]. Сама церковь значительных размеров свидетельствует о наличии здесь большой общины христиан. Мервские епископы участвовали во многих последующих соборах, причем, пользовались значительным авторитетом. Так, на соборе 554 года из тридцати шести епископов крупная Мервская митрополия имела седьмой ранг [7, С.82-89, 95-96].
Из трех основных течений христианства — мелькитства, монофизитства (яковитов) и несторианства в Средней Азии преобладало последнее. Поэтому епископ Мерва Фаруман участвует в важном соборе 486 года, на котором решался вопрос, какому из главных течений быть принятым Восточной церковью.
В 497 году с участием среднеазиатского епископа Иоханнана проходил собор в Селевкии, на котором шли дискуссии несториан или монофизитов. Проникновение учения на Восток шло постепенно. Христианству приходилось тесно соприкасаться, а временами и соседствовать, с другими религиями. Примером может служить храм в Согде в Ургутском районе, южнее Самарканда, известном в источниках как христианское селение Вазгирд. Недалеко от него сохранились руины памятника Кош-тепа V-VII веков н.э. При его раскопках был вскрыт зал типа византийских христианских храмов. Интересна находка в одном из помещений венчика крупного сосуда-хума, на котором оттиск печати с изображением двух мужских фигур. Один мужчина в длинном парадном одеянии, с высоким пышным головным убором стоит в полный рост, в руках книга и высокоподнятый крест. Второй — в парадной одежде, возможно, в короне, стоит коленопреклоненный. Это, несомненно, обряд крещения. Но в дом же храме, наряду с христианской символикой, оказался алтарь огня. Исследователи полагают, что здесь в одном храме исполнялись два обряда, так как в сельской местности вряд ли были специальные раздельные храмы [15., C.88-97].
Христианство было популярно среди тюркских кочевых народов доисламской эпохи. Одним из известнейших на Востоке христианских проповедников был епископ Илия, активно обращавший в веру тюркские племена, включая их правителей. Его труды пользовались большим авторитетом в христианской среде и Востока и Запада. И в историю епископ вошел как «апостол тюрок». В восточных районах Средней Азин вырастает новая митрополия для тюрок-карлуков с центром в Невакете (городище Красная речка), а источники упоминают несколько епископов-тюрок. Интересно отметить влияние христианства на другие культы. Так, в западной части Ташкентского оазиса близ реки Сырдарья в древней столице владения Чач был раскрыт храм середины I тыс. н.э., связанный с почитанием духа предков и поклонением огню. Дары храму опечатывались глиняными печатями-буллами с именами жрецов-хранителей храма. Во время одного из пожаров дары пострадали, но буллы, обгоревшие в огне, превратились в овальные терракотовые пластинки, на которых вместе с портретами жрецов сохранились надписи с именами и титулами [16., C.217-237].
Известный палеолингвист согдолог из Санкт-Петербурга В.А. Лившиц на одной из печатей прочел написанную по-согдийски надпись: «Аспасак Санак Каватенак» — «Епископ Санак, сын Кавата». По палеографии надпись датируется не позднее V — начала VI веков, хотя архаичность написания не исключает и IV век н.э. Главное слово здесь Аспасак — «Прислуживающий». По мнению В.А. Лившица, этот титул в манихейских текстах означает епископ и (архи)диакон. И если учесть, что манихеи широко заимствовали термины церковной иерархии у христиан, то, значит, в III-IV веках эта терминология, а, следовательно, и христианское учение было распространено и в областях Средней Азии к востоку от Сырдарьи. Исследователь считает, что этот термин указывает на христианскую принадлежность владельца геммы Чача III-IV веков н.э. и ставит вопрос: можно ли предполагать распространение ортодоксального христианства в Чаче в это время и действительно ли данный комплекс является храмом огня, при пребывании в нем булл христианского иерарха? Небезынтересно и само имя владельца Санак — «Подымающийся [к божеству]» [17., С.4,7].
И, наконец, при характеристике ранних христианских комплексов следует упомянуть пещерные христианские комплексы на юге Средней Азии, не отмеченные в первом выпуске сборника. В 1967 году в Таджикистане неподалеку от селения Айвадж Шаартузского района на склоне правого берега Амударьи строители заметили остатки каких-то старинных помещений. При изучении были выявлены вырубленные в глинистом сланце прекрасно сохранившиеся группы пещерных помещений. По всем данным это был христианский монастырский комплекс. Особый интерес в нем представлял миниатюрный купол помещения № 18, украшенный выпуклым крестом, имевшим не конструктивное, а идейное звучание, отражающее символику культа. Судя по особенностям архитектурного оформления, монастырский комплекс датируется V-VIII веками [18, С.187-204].
В другом районе Таджикистана — близ Пенджикента исследован могильник Дашт-Урдакон VII века. Здесь оказались подбойные могилы и в частности погребение девочки с бронзовым нательным крестом, а также хум с костями (что характерно для зороастрийского обряда), на стенке которого грубое изображение наклонного креста [18-а., С.128].
С приходом ислама влияние христианства в оазисах Средней Азии начинает сокращаться. Хотя арабы не противодействовали христианству, считая жителей общин «людьми книги», а Учителя христиан одним из пророков, но на них наложили специальный налог — выкуп и охрану неприкосновенности их жизни, как на всех немусульман, приверженцев иных обрядов. Источники отмечают для IХ-Х веков, что города и поселения в Согде и Чаче имели наиболее крупные общины христиан. Это подтверждает и самая последняя находка, сделанная в 1997 году ташкентским краеведом С. Ашировым, который на городище Шахрухия (Ташкентская область) нашел керамический светильник — чираг с изображением креста на днище, а также бронзовую крышечку (возможно, от кадила, чернильницы иди другого предмета) с процарапанным изображением несторианского креста [19.].
Христианский комплекс с церковной утварью IX-XII веков был открыт в Старом Термезе. Однако более глубоко христианство распространяется в восточных районах с преобладающим кочевым населением. Интересным свидетельством этого являются многочисленные христианские погребальные памятники Семиречья. Ряд их уже введен в литературу, но здесь хотелось бы остановиться на одном из наиболее ярких — Пишпекском, открытом в 1885 голу.
Обнаружение его связывается с поездками Н.Н. Пантусова и Ф.В. Пояркова, хотя, как выясняется, впервые их отметил межевщик Семиреченского областного управления Т. Андреев. Н.Н. Пантусов вскрыл более 80 могил. В целом же он считал, что кладбище содержит около трех тысяч погребенных. Это открытие вызвало большой интерес в востоковедении. Переводом и анализом надписей пишпекского кладбища занимались многие востоковеды — Д.А. Хвольсон, Ф.Е. Корш, В.В. Радлов, А.К. Коковцев и другие. Памятники относятся в основном к XII-XIV векам [20., С.42]. Нельзя не отметить продолжающуюся сегодня дискуссию, посвященную интерпретации объектов в тех же восточных районах, в частности Таш-Рабата в ущелье хребта Атбаш Киргизии, определенного С.Я. Перегудовой как несторианский храм.
Между тем, ряд исследователей склоняется к тому, что комплекс выполнял функцию рабата, т.е. был предназначен для пребывания военных отрядов, посольских делегаций, небольших караванов [20-а., С.160-170]. При Темуре из Армении в Самарканд было перемещено небольшое количество армян григорианского толка вместе со священником Карапетом Джугаеци, который впоследствии стал епископом общины [5., С.19].
Однако в XVI-XVII веках христианство в крае постепенно замирает, хотя известны случаи, когда в XIV-XVII веках Центральную Азию, главным образом Восточный Туркестан, посещали миссионеры — римские католики. Косвенные сведения о распространении христианства в среднеазиатском регионе содержатся в книге «Путешествие Шардена по Закавказью в 1672-1673 годах», где говорится о монашеском ордене Театинцев, которые «прежде имели дома в Туркестане», хотя ко времени поездки автора монахи там уже были истреблены. Академик Паллас, сообщая о посещении в 1769 и 1779 годах Яика (Уральск), приводит любопытные сведения о христианах, среди которых упоминаются потомки туркмен [21., С.42].
В 1831 году в Бухару с миссионерскими целями приезжал референт Йосеф Вольф, живший в Англии и владевший персидским и еврейским языками. Миссионерскую деятельность в Бухаре он проводил потому что, как он сам подчеркивает в своих записях, был евреем-христианином и хотел привлечь в свою веру преимущественно местных, так называемых бухарских евреев. Попытка потерпела неудачу [22., P.118-119].
Возможно, что в конце XVIII века Новопатрасский митрополит грек Хрисанф приезжал в Бухару тоже с миссионерскими целями, хотя он сам в коротких заметках свою поездку объясняет простым любопытством [23., С.3]. Свидетельством тому, что в древности на территории Средней Азии, наряду с другими религиями, были распространены течения христианства, является факт использования его терминологии в сочинениях ученых мусульманского Востока. По мнению ориенталиста Ф. Сулеймановой, они прекрасно разбирались в особенностях христианства. Так, христианство вообще называлось «Исавийя» от восточного имени Иисуса — Иса. Несториане же как особая ветвь этого учения, связанного с именем Патриарха Нестория, носили название «насарония». Примером такого использования термина в определении христиан может служить выделение этого понятия среднеазиатским ученым Алихангуром Согуни (1885-1976) в его «Истории Мухаммада» [24., С.11,14].
Первые русские поселения появились в Восточном Казахстане в конце XVII века. В труднодоступных горных долинах реки Бухтармы находили прибежище крестьяне из центральных русских губерний, спасавшиеся здесь от экономического и религиозного гнета, а также от рекрутчины. Эти поселения долю оставались неизвестными правительству, и лишь с 1791 года жители их были официально включены в русское подданство. Бухтарминцы жили обособленно и даже в 40-х годах XX века поражали этнографов своей архаичностью. В 60-е годы XVIII столетия славянское население этою региона значительно увеличилось за счет русских старообрядцев (раскольников), бежавших от религиозных преследований за польские рубежи, но затем принудительно возвращенных на родину (поэтому их стали называть «поляками») [24-а., С.667].
С середины XIX столетия начинается новый этап оживления христианства в Средней Азии. Он связывается с территориальными устремлениями России на юг. Ее укрепления — пограничные линии сначала строятся в степных районах. Затем, с вхождением в состав государства казахских жузов, границы приближаются к узбекским ханствам. Поэтому вначале христианские общины и храмы, обслуживавшие воинские посты и гарнизоны, появляются на территории Казахстана. Самым простым храмом была походная церковь воинского отряда, представлявшая собой обычную палатку или легкую временную постройку. Походный иконостас и другую церковную утварь воинский священник возил с собой, открывая в местах остановки отрядов временный молитвенный дом. Сначала походные церкви существовали во всех туркестанских стрелковых бригадах и закаспийских стрелковых батальонах.
В 1910 году все туркестанские, закаспийские и западносибирские стрелковые батальоны были развернуты в 22 туркестанских стрелковых полках с учреждением при них походных церквей и штатных священников. В отличие от них, гарнизонные или полковые церкви возводились в местах постоянного квартирования военных частей.
Во второй половине прошлого века совершаются военные походы против среднеазиатских ханств, завершающиеся завоеванием территории, частично включенной непосредственно в состав Российской империи, и образованием в других, полунезависимых ханств Бухарского и Хивинского.
Попытки Англии проникнуть в Среднюю Азию из Афганистана подтолкнули Россию уделять больше внимания укреплению южных рубежей. На Амударье, фактически на землях бухарского эмирата, строится военное укрепление Патта-Кесар (Новый Термез). В укреплении постоянно стоял гарнизон, а на территории вокруг него по договору 1882 года русские могли селиться и приобретать землю в личную собственность. Не случайно здесь, на самой границе с Афганистаном, возводится церковь военного ведомства, а позднее вырастает храм и в самом городе.
Значительная часть русского населения была и в других пунктах Бухарского ханства — Чарджуе. Новой Бухаре, Керках. На христианских кладбищах первоначально строились маленькие часовни. На включенных в состав Российского государства областях, в число которых входили оазисы с крупными древними городскими центрами — Ташкентом и Самаркандом, Кокандом и Маргиланом, формируются новые городские поселения. В них размещаются военные гарнизоны и органы управления краем. Появляется туркестанское чиновничество, быстро растет торгово-промышленное сословие.
Строительство Закаспийской железной дороги, появление паровозо-вагонной тяги, станций, депо и перегонов привели к формированию огромной армии рабочих, значительная часть которых пополнялась из русского православного населения. Поэтому, наряду со стационарными храмами, в крае постоянно функционировали передвижные вагоны-церкви, обслуживая христиан — строителей железной дороги.
По мере расширения колониальной политики в Туркестане начинается стихийное, а затем и более организованное переселение чаще всего неимущих, безземельных и малоземельных крестьян из центральных районов России. Большинство прибывших были христианами, преимущественно православного вероисповедания. Распространение христианства шло постепенно, по мере административного и хозяйственно-экономического освоения Степного края, а затем и Туркестана. Пути движения религии соответственно шли в основном со стороны Западной Сибири и Оренбургской округи. Наиболее многочисленное православное население приходилось на области Тургайскую, Акмолинскую, Уральскую и Семипалатинскую.
В конце 70-х годов в среднеазиатский регион стали перебираться и фанатичные последователи различных вероучений старообрядческого толка. Старообрядцы-казаки в Туркестанский край были высланы в административном порядке. За ними потянулись сторонники сектантства. Этому способствовало разрешение законом от 27 марта 1879 года деятельности секты баптистов, объявленной «дозволенной». К ней примкнули некоторые другие сектанты (адвентисты, молокане и др.), представлявшие в целом значительную группу переселенцев в Туркестане [25., С.32].
Но христианская паства Средней Азии росла не только за счет православия. В среду воинских контингентов (в первую очередь высшего и среднего офицерского состава) в Туркестан попадают также католики и лютеране. Они входили в разряд гражданской администрации, чиновничества, причем значительную часть их представляли немцы. Набор рядового состава в российскую армию проходил по всей территории России, то есть призывались также поляки, эстонцы, шведы, литовцы, латыши. Политическое движение в Польше, выливавшееся в вооруженные восстания или иные выступления, сопровождалось ссылками участников на окраины России, в том числе и Туркестан. Появляется здесь и лютеранское население из числа торговцев и ремесленников.
При переселении крестьян в Туркестанский край первоначально были установлены ограничения для неправославных, но затем (в 90-е годы XIX века) они были сняты из-за страшного голода в Поволжье. Вместе с крестьянами сюда переселяются и немецкие колонисты, в том числе и меннониты, отказывавшиеся от военной службы. В первые годы XX века быстро растет община армян, продвигавшихся сюда с территории Кавказа. Армяне в Средней Азии занимались виноделием и шелководством, а также торговлей различными предметами ремесла и кустарным промыслом. Наиболее активно они расселялись в западных областях — от Закаспийского края вплоть до Самарканда, а также в Ферганской долине, в связи со строительством железной дороги и развитием хозяйственно-торговых связей России и Средней Азии через Кавказ. Примечательно, что, согласно архивным источникам, в сводках о количестве христиан разных течений в начале XX века по Самаркандской области и Закаспийскому краю (Асхабад и Красноводск) армяне подразделяются на армян-григорианцев и армян-католиков. Последние составляли меньшинство [26.].
Первая стационарная, православная церковь была возведена в Средней Азии в укреплении Раим Сырдарьинской области в 1847 году. Через три года строится первый молитвенный дом в Семиречье — в Копальской казачьей станице, а в 1852 году назначается первый священник. Естественным военно-административным и культурным центром этого региона становится основанное в 1854 году укрепление Верный, быстро перерастающее в город. Здесь в 1858 году открывается церковь [27.].
Во второй половине 50-х и в течение 60-х годов появляются приходы в станицах Большеалматинской (1856), Лепсинской (1858), Софийской (1864), Ирджарской (1865), Коксуйской (1866), Надеждинской и Высоколюбовииской (1867), Сарканской (1868), поселениях Токмак (1868) и Каракол (1869).
По штату в 1860-х годах было определено иметь постоянных военных священников в фортах №1 (приход открыт в 1853 г.), №2 (Кармакии) — (1866) и Перовском (1854), укреплениях Аулиеата (1866), Джулек и Мерке (1866), Туркестане (1866). Кроме того, в Ташкенте (1865), Чимкенте (1866), Джизаке (1866), Ходженте (1866), в укреплениях Чиназ (1868) и Ура-Тюбе (1867). Затем был образован Зеравшанский округ, в котором открывались военные приходы — в Самарканде (1868) и Катта-Кургане (1868) [28., С.6-9].
Все вышеназванные приходы, за исключением семиреченских и Токмака, состояли в ведении учрежденной в 1859 году Оренбургской епархии. Воскресенская церковь в Аральском (с 1854 года — Казалинск) и Богородицкая церковь в форте Перовском относились к благочинию священника крепости Орской, Петропавловская церковь в форте Александровском — к благочинию протоиерея А. Добровидова; девять церквей, устроенных по указанию Св. Синода с 1865 года на Сырдарьинской линии (в Аулиеате, Мерке, Туркестане, Чимкенте, Ташкенте, Чиназе, Джизаке, Ходженте, Ура-Тюбе) вместе с Зеравшанским отделом составляли Ташкентский благочинный округ [29., С.280-282].
Оренбургским епископом до 1866 года состоял Варлаам Денисов, а с 1866 года — Митрофан Вицинский [30., С.318].
Семиреченские приходы относились к Томской епархии и делились на два благочиния: Заилийское и Лепсинское. В интересах не только церковных, но и государственных, первый генерал-губернатор Туркестанского края К.П. Кауфман в конце 60-х годов XIX столетия возбудил ходатайство об открытии самостоятельной Туркестанской кафедры. Ввиду обширной территории, обособленности и фактически автономного управления этот вопрос назревал уже достаточно давно и потому решился очень быстро. По Высочайше утвержденному мнению Государственного Совета от 4 мая 1871 года и указу Св. Синода от 17 июня того же года за № 36 была учреждена Туркестанская епархия.
Первым центром православия в Туркестане стал город Верный, расположенный на самой восточной окраине генерал-губернаторства. Объясняют это двумя причинами. Во-первых, туркестанские генерал-губернаторы не разрешали открытия кафедры в Ташкенте, так как громкая, бьющая в глаза местного населения церковная обрядность могла повлиять на их авторитет. Во-вторых, наличие церковной власти наряду с административной могло быть истолковано как официальное давление на местную религию — ислам, и осложнить отношения администрации с коренным населением края.
Имперская администрация стремилась не вмешиваться в духовную жизнь коренного населения. Старые мусульманские институты были почти не затронуты. За мусульманским духовенством сохранялись привилегии. Православная церковь не придерживалась прозелитизма и старалась не навязывать свою веру лицам другого вероисповедания. В то же время нельзя обойти вниманием отдельные попытки миссионерской деятельности, в частности, Н.П. Остроумова[2], от которой он постепенно отказался. Ту же направленность имели и факты выдачи генералом-губернатором денежного вознаграждения представителям местного населения за добровольный отказ от мусульманства [31., С.39].
В 70-х – 80-х годах XIX века в Туркестанском крае развернулась активная деятельность по открытию новых приходов и строительству стационарных храмов. Причем рост православных приходов не только не стал препятствием для интенсивного строительства мечетей, но, наоборот, в отдельных случаях как бы способствовал их увеличению. Если в начале 70-х годов процесс возрождения христианства охватывал исключительно Семиреченскую область, то затем стал распространяться по всему Туркестану.
Все большее количество приходов создавалось в Сырдарьинской и Ферганской областях. К этому времени Средняя Азия и Казахстан в административном отношении не представляли единой общности. Разобщенность переселенцев восточнославянского происхождения в основном нивелировалась общей религией. Поэтому понятно, какое важное значение имел указ Св. Синода от 26 января 1901 года за № 610, по которому семь епархиальных приходов в Закаспийской области, бывшие в ведении Грузинского епархиального начальства, перешли в управление Туркестанской епархии, а Асхабад стал одним из центров православия края.
К началу XX века в Туркестане на 6,03 млн. мусульман приходилось 391 тыс. православных христиан [32., С.45], или на 5340 мечетей — 306 церквей. Кроме того, здесь еще жило 10,1 тыс. старообрядцев; 8,2 тыс. лютеран; 7,8 тыс. католиков; и 17,1 тыс. христиан — сектантов всевозможных толков и 26 тыс. иудеев [33.].
Из политических соображений туркестанским епископам запрещалось разъезжать по епархии чаще одного раза в пять лет, а в самом Ташкенте они долгое время не имели права содержать квартиру, но по данным старого туркестанца — известного археолога М.Е. Массона, Великий князь Николай Константинович Романов в юго-западном флигеле своего дворца (1890) демонстративно содержал помещение для епископов, приезжавших в Ташкент. Верненскому епархиальному управлению православной церкви все труднее было поддерживать связь с местной паствой. Но, несмотря на постоянные ходатайства о необходимости переноса кафедры в Ташкент, располагавшийся в центре Туркестанского края, это было сделано только в 1916 году.
Одной из причин послужило землетрясение 1887 года, разрушившее весь Верный, в том числе архиерейский дом и церковь Александра Невского. Для ликвидации его последствий духовному ведомству были выделены значительные суммы — на возведение из прочных строительных материалов новых храмов взамен разрушенных. Уже к 1899 году в Верном почти все церкви были отстроены заново. Оттянуло перевод епархии в Ташкент и другое обстоятельство.
В марте 1900 года самые значительные и благоустроенные церкви края перешли в ведение Протопресвитера военного и морского духовенства. В Туркестанской епархии остались лишь сельские приходы да несколько городских [28., С.23].
В 1916 году по определению Св. Синода от 22 ноября — 9 декабря за № 8662, Высочайше утвержденному 16 декабря 1916 года, получено разрешение на местопребывание епископа Туркестанского и Ташкентского со штатом Кафедрального собора, архиерейского дома и духовной консистории в Ташкенте; в Верном предписывалось учредить на местные средства кафедру Викарного епископа с наименованием его Семиреченским и Верненским (Указ Св. Синода от 23 декабря 1916 г. за №№ 16419 и 16420) [34.].
Высшей церковной инстанцией для обеих епархий предполагалось признать периодически созываемый поместный собор Туркестанской церкви. Перенос кафедры в новую епархиальную столицу был осуществлен в феврале 1917 года. И хотя к этому событию Русская православная церковь готовилась давно, из-за затянувшегося процесса сбора пожертвований строительство Кафедрального собора в Ташкенте к моменту перевода кафедры находилось в начальной стадии. На территории Александровского парка были всего лишь частично вырублены деревья и вырыт котлован под главный храм епархии. После Октябрьских событий работы были свернуты. Расчищенная территория в дальнейшем была выделена под мемориальный комплекс. Епархиальное управление Туркестана имело характерную для всей Российской империи епископально-консисториальную форму устройства. И согласно духовному регламенту, консистория работала «не только как вспомогательный орган архиерея, но и как учреждение, ограничивавшее его индивидуальную волю оправданием распоряжений его … в узаконенные формы». Она осуществляла все епархиальное управление за исключением учебно-воспитательного по духовному и светскому образованию юношества, что входило в ведение епархиального архиерея [35., с. 47, 18].
Дела в Туркестанской консистории — протоколы собраний с 1872 года, журналы, докладные реестры, метрические книги с 1850 года, исповедные росписи с 1853 года, клировые ведомости с 1854 года, дела комитетов по раздаче пособий, оказанию помощи пострадавшим, а также распорядительные, хозяйственные, судебно-следственные документы — распределялись не по роду их деятельности, а больше географически на два стола, соответствующих двум частям епархии — Туркестанскому и Степному генерал-губернаторствам [36.]. Это объясняется отчасти тем, что личный состав Туркестанской консистории был меньший, чем в прочих консисториях — всего три члена [37.].
Впоследствии духовному правлению удалось добиться увеличения штата до четырех человек. В 1898 году секретарем Туркестанской духовной консистории являлся настоятель Кафедрального собора в Верном протоиерей Невоструев. Вместе с ним работали два ключаря того же собора и священник Алексей Шавров, который вскоре получил сан протоиерея. Сделавшись настоятелем Туркестанского Кафедрального собора, он стал, после священнослужителей И.П. Ракитина и Е. Родзаевского, секретарем духовной консистории в Верном (1907). Делопроизводством епархии занимались священники Гавриил Тихонравов, Михаил Андреев, Дмитрий Поливкин [38.].
В Туркестанской консистории смена секретарей происходила очень часто — каждые два-три года. В 1912 году пределы епархии оставил навсегда секретарь духовной консистории Митрофан Иларьевич Архангельский, а на его место был назначен секретарь Омской консистории, коллежский советник Михаил Богоявленский [39., С.445].
Хотя многие и считали консисторию «учреждением архаическим», нельзя не признать, что она обслуживала нужды не только церкви, но и государства (метрификация, регистрация брака и проч.). Церковное правление своими средствами способствовало поддержанию порядка на кладбищах. В церковно-административном отношении Туркестанская епархия по традиции делилась на благочиннические округа, имевшие каждый свой коллегиально-административный орган — благочинный совет, управляющийся назначенным отцом благочинным. В зависимости от количества приходов число благочиний в разные годы в Туркестане также было разным.
Организационные проблемы в Туркестанском крае и Закаспийской области решала и Армянская апостольская церковь. При поддержке католикосов Армении в Асхабаде, Кызыл-Арвате, Мерве, Красноводске, Самарканде и некоторых других городах открывались молельные дома и возводились красивые храмы, создавались армянские церковно-приходские школы. Но проявлявшееся на Кавказе стремление армян к сепаратизму побудило царское правительство пресечь связи среднеазиатской церкви с Шемаханской епархией и переподчинить ее Астраханской. Однако в целом структура епархиальной иерархии мало изменилась вплоть до 1917 года.
Туркестанские католики проживали в основном в городах. До начала XX столетия их обслуживали католические священники, эпизодически приезжавшие из разных городов России. Но в 1902 году по ходатайству генерал-губернатора Н.А. Иванова Могилевский архиепископ назначил куратором католических приходов в Туркестанском крае высокообразованного и опытного священника из Санкт-Петербурга Иустина Бонавентура Пранайтиса, оставившего заметный след в истории католицизма России и Туркестана. Святой отец скончался в Ташкенте в 1917 году и похоронен на Боткинском кладбище. Его приемником стал отец Рутенис (1917-1925).
В 1877 году в Ташкенте создается община евангелическо-лютеранского исповедания и избирается приходской совет для руководства хозяйственной и богослужебной деятельностью. Юридическое оформление община получила в 1885 году, когда был образован туркестанский церковный приход, членами которого стали все живущие в крае лютеране. Приходским пастором с 8 июля 1892 года был назначен Юстус Юргенсен, 41 год своей жизни отдавший служению на туркестанской земле. В рамках прихода, но с самостоятельным советом с 1906 года, в качестве филиалов ташкентской, оформляются самаркандская и асхабадская общины. С 1932 по 1937 годы пастором евангелическо-лютеранской общины становится Г.Г. Берендс. На стыке двух столетий на благотворительные пожертвования прихожан строятся первые скромные, но очень добротные молитвенные дома католиков и лютеран.
Вместе с тем сооружаются й монументальные кирхи и костелы. Те и другие отражают стили культового зодчества, присущие местам исхода их мирян. Первоначально, учитывая опасения русских священников о соблазнении православных в иную веру, императорским повелением проповеди во всех конфессиях и литургии разрешалось проводить либо на языках этнических общин, либо на латыни. Однако среди военнослужащих и большей части переселившегося гражданского населения основным языком фактически оставался русский. Поэтому запрет на использование русского языка в богослужении в кирхах и костелах вскоре был снят, и предписанием генерал-губернатора для проповедников католических и 20 лютеранских общин дано разрешение на проведение отдельных проповедей на русском языке при условии, если они будут читаться в то же время, когда совершаются богослужения в православных храмах.
Приток переселенцев-христиан был особенно велик во время первой мировой войны, когда в Туркестан стали привозить военнопленных. Пленные венгры, чехи, поляки, австрийцы впоследствии внесли определенный вклад в экономику и культуру Туркестана. Духовную жизнь достаточно большого количества военнопленных разных христианских течений с 1914 по 1917 годы обслуживали священнослужители тоже из числа военнопленных. Так, среди пяти тысяч военнопленных, находившихся в Туркестане на 1 ноября 1914 года, было 53 священнослужителя славянского происхождения. Пленные офицеры (в большинстве славяне), пользовавшиеся особыми привилегиями, могли, видимо, иногда посещать и действующие христианские храмы. В «Положении о военнопленных» от 7 октября 1914 года военной администрации предписывалось «обращаться с ними человеколюбиво, не стесняя их в вероисповедании при условии соблюдения предписанных властью мер порядка и безопасности». Православная церковь Туркестана первая проявила инициативу духовного шефства над военнопленными. В послефевральский период 1917 года руководители иностранных клерикальных организаций, а также представительство Всемирного союза христианской молодежи, возникшее в 1915-1916 годах, приезжали с благотворительной целью к военнопленным [39-а., С.72].
В июне 1917 года туркестанская «Комиссия по делам военнопленных» в целях облегчения участи находящихся в плену солдат — чехов, поляков, сербов, хорватов, словенцев и представителей других дружественных России народов принимает решение ходатайствовать перед Временным правительством о предоставлении этой категории пленных возможности посещать храмы своих вероисповеданий [40., С.66-67,77].
Европейские выходцы из Туркестана, как местные, так и иностранные подданные — армяне, литовцы, эстонцы, финны, поляки, чехи, словаки, шведы, норвежцы, голландцы, датчане, французы, итальянцы, бельгийцы и др. были объединены в религиозно-земляческие организации, в первую очередь по принципу религиозной общности. Приезжавших сюда европейцев надолго или оседавших на постоянное жительство объединяло стремление к совместным религиозным праздникам, к обучению детей родному языку, тяга к воспоминаниям о родине. Например, к началу XX века в Туркестане насчитывалось 600-1000 греков (из 21 числа российских, турецких, греческих подданных), большая часть которых относилась к мелкой буржуазной прослойке (пекари, торговцы, ремесленники). Были среди них и довольно зажиточные предприниматели [41., С.86-89].
Возможно, в этот период здесь функционировали незарегистрированные молитвенные дома, в которых служба проводилась на родном языке. Община эллинов продолжала свою религиозную и общественную деятельность до начала 30-х годов. Греческий клуб-школа занимал часть здания бывшей гостиницы «Шарк», расположенной в центре Ташкента. Но, пожалуй, особенно активно работала польская религиозная община, в частности, в Закаспийской области в период деятельности настоятеля римско-католического собора в Асхабаде отца Железовского, занимающего с конца мая 1917 года пост председателя асхабадского комитета помощи полякам, пострадавшим от войны.
17 сентября 1917 года в Асхабаде была открыта польская школа на 54 учащихся. Помимо общей программы, обязательной для русских начальных школ, в этой и других школах дети поляков должны «были изучать польский язык и римско-католическое вероучение» [41., С.77].
Аналогичные религиозные землячества зарубежных выходцев действовали в Средней Азии до конца 20-х начала 30-х годов. В середине двадцатых годов здесь появились и первые поселения корейцев. В 1924 году под Ташкентом была зарегистрирована первая корейская сельскохозяйственная артель [42., С.565].
В силу колониальной специфики Русская православная церковь в Туркестане отличалась рядом особенностей, возникших сразу же с ее появлением. Туркестанская епархия держалась особняком от других епархий страны. Именно на восточной окраине Российской империи перед духовенством стояли весьма недвусмысленные задачи и в политическом, и в культурно-просветительском, и в социальном аспектах.
Большинство проблем вообще возникло здесь впервые. Многие из них решить традиционным путем было невозможно, а нетрадиционный путь мог породить новые проблемы. Среди священнослужителей Туркестана особенно колоритной личностью являлся крупнейший иерарх русской православной церкви архиепископ Софония [42-а.].
Софония (Сокольский Стефан Васильевич) родился в 1800 году в селе Эсько Тверской губернии. Окончил Санкт-Петербургскую академию в 1827 году. В том же году в Твери получил звание профессора всеобщей истории и греческого языка, в 1831 году в Вологде — звание профессора богословия. Являлся ректором семинарий и духовных училищ в Вологде (1831), в 1832-м — в Архангельске, в 1835-м — в Орле, в 1839-м — в Подольске, в 1844-м — в Ярославле, в 1845-м — в Твери и 1847-м — в Могилеве. Принял постриг и святое имя Софония 6 сентября 1827 года. С 1829 года иеромонах монастырей Вологодского Спасо-Каменского, в 1832-м — Архангельского, с 1835 года архимандрит Мценского Петро-Павловского; с 1839 года Каменецкого Свято-Троицкого; с 1847 года — Ростовско-Богоявленского; с 1847 года — Могилево-Братского монастырей. Настоятель русских посольских церквей в Константинополе с 1848 года, а с 1855 года в Риме. С 1863 года — епископ Новомиргородский, викарий Херсонской епархии. Награжден орденами св. Анны 1-й (1865) и 2-й степеней (1841), св. Владимира 3-й (1850) и 2-й степеней (1874). 16 сентября 1877 года в день пятидесятилетия служения церкви и Отечеству Софония был рукоположен в архиепископы. В 1850 году совершил паломничество по святым местам Палестины.
Преосвященный Софония был выдающимся церковным писателем и проповедником (издано полное собрание его сочинений в четырех томах). В Верном им написаны труды: «Из дневника по службе на Востоке и Западе преосвященного Софония, епископа Туркестанского и Ташкентского, в бытность его архимандритом при заграничных русских посольствах» (1874), «Современный быт и литургия иаковитов и несториан, и о церкви Армянской» (1876), «Слова и речи» (1876). Был он близок творчески и духовно с Папой Римским Пием IX, несторианскими епископами Гавриилом и Урмием Михаилом, экзархом Грузии Евсевием, другими церковными, государственными и общественными деятелями мира. В совершенстве знал языки итальянский, французский, сирийский, персидский, турецкий. Ему принадлежит видная роль в обращении несториан Востока в лоно православной церкви. В 1894 году учреждена именная стипендия архиепископа Софония для воспитанников Санкт-Петербургской духовной академии. Умер он 26 ноября 1877 года в Верном, погребен в Большеалматинской станичной церкви, в деревянной раке, покрытой мраморной доской с эпитафией. Склеп был разорен во время реставрации культового памятника в 1989 году.
В качестве первого Туркестанского архипастыря Софония прибыл в свою епископскую резиденцию в Верный в мае 1872 года — почти через год после назначения. Принимал активные меры к возведению храмов практически во всех крупных городах Туркестанского края. Преосвященный Софония старался как можно лучше выполнить задачу, поставленную перед Туркестанской епархией — сохранять и распространять православие, охранять чистоту нравов, ограждать от влияния других религий русское население.
Образованный человек и ревностный хранитель веры, он часто встречался с гражданскими и военными чинами, состоял в различных научных обществах. Его стараниями в епархиальное управление перешли несколько храмов военного ведомства. Александр (Кульчицкий), настоятель Русской посольской церкви в Риме в иеромонашеском сане, являлся членом Русской миссии в Пекине. В совершенстве знал китайский язык.
12 марта 1878 года в соборе Александре-Невской Лавры был возведен в сан епископа. Архипастырскую службу в Верном начал с 6 июня 1878 года. Вступив на должность Туркестанского и Ташкентского епископа и ознакомившись с состоянием епархии, владыка пришел к убеждению о крайней необходимости учредить здесь Православную миссию. С этой целью была направлена записка туркестанскому генерал-губернатору Г.А. Колпаковскому, где он указывает, что такая миссия имеет по местным условиям не только религиозное, но и государственное значение. Однако своей цели ему так и не удалось достигнуть. С 6 августа 1883 года на покое. Скончался в Костроме.
Неофит (Неводчиков Николай Васильевич) родился в 1822 году в Санкт-Петербурге. В 1844 году окончил Московскую академию. Епископ Елисаветградский, викарий Херсонский. С 6 августа 1883 года по 22 ноября 1892 года на службе в Верном. Перемещен в Кишинев архиепископом Хотинским. Умер 9 марта 1910 года в Измаиле. Известный православный писатель и богослов. Он был творчески близок с Н.В. Гоголем, оставил о нем свои воспоминания. На его долю выпала честь восстанавливать православные храмы после разрушительного верненского землетрясения 1887 года. Нелегко было заново строить церкви и молитвенные дома. Но еще труднее — найти образованных священников. «Священнослужители мало обнаруживают близкого и живого знакомства с Библией, не говоря уже об истории и учении церкви, как общеправославной, так и отечественной», — писал епископ Неофит в 1885 году [43.].
Григорий (Полетаев Лев Иванович) окончил Казанскую духовную академию. Епископ Ковенский, викарий Литовской епархии. С 21 ноября 1892 года по 18 февраля 1895 года служил в Верном. Перемещен в Омск. С 1901 года — управляющий Донским монастырем в Москве. Брат Полетаева Николая Ивановича (1862-1897), выдающегося церковно-школьного деятеля, магистра богословия Казанской духовной академии, подвижника Оренбургской епархии.
Туркестанская епархия при преосвященном Григории уже занимала обширную территорию. Однако крестьянские селения были, в основном, разрознены, а дороги — в ужаснейшем состоянии. Многие храмы в «глубинке» оставались без священников. Епископам приходилось выезжать в различные районы, освящать церкви и окормлять паству. Поэтому подбору достойных кадров владыка Григорий отдавал много энергии. Его воспитанников ласково называли «григорианцами».
Человек открытый, но выдержанный, он не боялся начистоту резко говорить с самим генерал-губернатором А.В. Вревским, который, как и его предшественники, любил вторгаться в неподведомственную ему область православного духовенства.
Никон (Богоявленский Филипп Егорович) родился в 1831 году в Туле. Блестяще окончил Тульскую семинарию и поступил в Киевскую духовную академию, в которой окончил курс со степенью магистра богословия в 1855 году. С 14 марта 1895 года по 19 июня 1897 года служил в Верном до дня своей кончины. Погребен рядом с епископом Софонией в мраморной раке. Во время реставрации храма (1989) могила осквернена. Преосвященный Никон — известный церковный писатель — публиковался под псевдонимом «Православный». Будучи главой Туркестанской епархии добивался улучшения условий жизни священников, в абсолютном большинстве подвижников, которые трудились на совесть, бескорыстно. Сельские церковные служители имели в то время оклады 200-600 рублей в год [44.].
В Туркестане оплата пастырского труда являлась самой низкой в стране, а условия, пожалуй, самыми сложными. Что же касается предъявляемых требований, то они здесь превышали уровень других епархий. Именно у владыки Никона впервые возникло намерение перенести епископскую кафедру в центр Туркестанского края — Ташкент.
Анастасий (Опоцкий) управлял Туркестанской епархией заочно с 28 июня по 9 ноября 1897 года.
Аркадий (Карпинский) родился в 1851 году в Орле, что на Волынщине. Окончил Московскую духовную академию. До Туркестана — епископ Балахнинский, викарий Нижегородской епархии. В Верный назначен 9 ноября 1897 года, прибыл в 1898 году, 18 декабря 1902 года перемещен в Рязанскую (Зарайскую) кафедру. Умер в Иверском монастыре Новгородском. Особое внимание преосвященный Аркадий уделял созданию и благоустройству сельских приходов. За время его пятилетнего пребывания в Туркестане было открыто 20 церковно-приходских школ. Он также активно добивался утверждения архиерейской кафедры в Ташкенте.
Паисий (Виноградов) родился в 1852 году неподалеку от Новгорода. В 1872 году окончил курс Московской духовной академии вторым кандидатом по богословскому отделению. В Туркестане служил с 18 декабря 1902 года по 20 января 1906 года, когда был удален на покой и определен в Жировицкий монастырь Гродненской епархии, затем в Иоанно-Предтеченский монастырь Астраханской епархии. Умер 26 декабря 1909 года.
Недолгая пастырская деятельность епископа Паисии в Туркестане совпала с ратифицированием Высочайшего Указа от 17 апреля 1905 года о веротерпимости, который предусматривал равное положение всех религий. Однако практически его реализация оказалась делом куда более сложным. Православная церковь в России по-прежнему продолжала занимать первенствующее положение. Пребывание преосвященного Паисия в Туркестане отличалось большим количеством переводов и перемещений подведомственного ему духовенства.
Димитрий (Абашидзе Давид Ильич, князь Имеретинский) родился в 1867 году в Тифлисе. В 1891 году окончил Новороссийский университет и в мае 1896 года Киевскую духовную академию. В Верном служил с 20 января 1906 года по 25 июня 1912 года. Потом был перемещен на Таврическо-Симферопольскую кафедру. Участвовал в работе собора Русской церкви 1917-1918 годов. В 1919 году эмигрировал за границу, но в конце 20-х годов вернулся в Киев. Затем принял схиму и под именем Антония пребывал в затворничестве.
Хотя взаимоотношения светской и духовной власти в крае не всегда отличались терпимостью, епископ Димитрий умел находить общий язык с администрацией, что способствовало интенсивному возведению православных храмов. В 1906 году по его инициативе была учреждена религиозная газета «Туркестанские епархиальные ведомости». При нем в 1907 году состоялся съезд духовенства железнодорожных церквей Туркестана, посвященный борьбе с «красной пропагандой». На нем говорилось, что железнодорожные чины отличаются «языческим иконоборством и ведут ожесточенные гонения против христианства в лице духовенства». Не допускают постановку икон-киотов в вокзальных зданиях, устройства возле них часовен и молитвенных домов, а также вагонов-церквей [45., С.141-142].
При активном участии владыки Димитрия в июле 1909 года проходил I съезд духовенства Туркестанской епархии. Согласно уставу духовных училищ 1867 года подобные съезды должны были являться зачатками соборного 26 епархиального самоуправления и подведения итогов деятельности Туркестанского духовенства. Программа его заседаний была довольно обширной. Здесь разбирались вопросы об открытии среднего духовного и других учебных заведений, деятельности благотворительных обществ. Большое внимание уделялось миссионерскому делу [46., С.80].
Последние годы правления возглавителя епархии совпали с широкой миссионерской работой переселенцев-сектантов, что, естественно, вызвало противодействие как со стороны православной церкви, так и местной администрации. В 1911 году правительственным постановлением была создана антисектанская комиссия во главе со священником Ильиным. Однако ее деятельность ограничивалась лишь увещевательными беседами с православным населением, дабы ограничить его от уклонения в сторону иных толков и религий [47., С.567].
Иннокентий (Пустынский Александр) родился в 1869 году на Вологодчине. В 1893 году окончил Киевскую духовную академию. В 1899 году получил сан архимандрита. Службу начал псаломщиком Кафедрального собора в Сан-Франциско. С 1909 по 1912 годы — епископ Аляскинский, Якутский и Вилюйский. С 25 июля 1912 года — епископ в Туркестане.
Иннокентий стал первым епископом Верненским и Семиреченским, викарием Туркестанской епархии. В 1917 году преосвященный Иннокентий переезжает в Ташкент, который покидает в 1923 году. Умер в 1942 году в Алма-Ате.
На время пастырской службы архиепископа Иннокентия выпали самые трудные для Русской православной церкви годы после прихода большевиков к власти. Декретом от 23 января 1918 года было установлено отделение церкви от государства и школы от церкви. Помимо двух основных положений постановления, указанных в самом его названии, согласно декрету ведение всех актов гражданского состояния — отдела записей рождений, смертей и браков — передавалось исключительно гражданской власти. Религиозным и церковным обществам запрещалось владеть собственностью, они лишались прав юридического лица; все имущество церковных и религиозных обществ было объявлено народным достоянием. Церковные праздники заменились революционными. Св. Синод прекращает свои административные полномочия. Патриарх Московский и Всея Руси Тихон был лишен свободы и фактически отстранен от управления церковью. В результате Русская православная церковь осталась без ее канонического центра.
В 1918 году преосвященный Иннокентий, пользуясь тем, что располагает большей свободой действий в правлении, учреждает дополнительные викарийства в Аулиеате и Ашхабаде. В том же 27 году по его инициативе был проведен второй съезд епархиального духовенства, где была принята Декларация, подписанная 3 октября 1918 года, которая объявляла независимость Туркестанской поместной православной церкви и устанавливала новые формы поведения и деятельности ее пастырей. Однако оговаривалось, что она будет стремиться к установлению духовного общения со всеми другими православными епархиями. Небезынтересно, что староцерковники в принятых «нормах», регулирующих деятельность духовенства, указывали, что «отделение церкви от государства не имеет для церкви иных последствий, как только благотворные, ибо глубоко соответствует природе христианской церкви, как царства не от мира сего» [48.].
Однако тяжелейший кризис Русской православной церкви становится пагубным и для духовенства Туркестана. Его также охватывает раскол. В октябре 1922 года в целях сохранения староцерковного направления владыка Иннокентий рассылает по своим приходам архипастырское послание, но почти не находит единомышленников. Были упразднены все церковно-приходские школы. Количество приходов резко сократилось. Проповедники под предлогом якобы сокрытия ими церковных ценностей подвергаются арестам и ссылкам.
В 1918 году был расстрелян викарный епископ Верненский и Семиреченский Пимен (Белоликов Петр Захариевич. Родился в 1879 г.). Епископ Салмасский. Один из видных деятелей православной миссии среди несториан — айсор. Епископ принял кафедру 6 июля 1918 года. Весной 1923 года архиепископ Иннокентий «в ожидании ареста (как «тихоновец», он знал, что черед его близок) возвел в сан епископа архимандрита Виссариона. Но не прошло и суток, как вновь назначенный епископ исчез в подвалах ГПУ, а потом был выслан из города. Вконец перепуганный Иннокентий также убежал из Ташкента, так никому и не передав церковную власть в Туркестане» [49., С.76].
На фоне всеобщей паники трагического 1923 года ярким событием стало появление в Туркестане колоритной фигуры святителя Луки.
Лука (Войно-Ясенецкий Валентин Феликсович) родился 27 апреля 1877 года в Керчи в старинной княжеской семье. В 1903 году закончил медицинский факультет Киевского университета. После возвращения с русско-японской войны в течение 14 лет работает земским врачом («мужицким доктором»). В 1915 году он защитил диссертацию на степень доктора медицины, признанную в России лучшей работой года. Весной 1917 года болезнь жены заставила Войно-Ясенецкого переехать в Среднюю Азию, 28 где он становится главным хирургом Ташкента. В 1917-1923 годах — председатель Союза врачей. В 20-е годы принимает активное участие в организации Туркестанского университета. В 1920-1923 годах заведует кафедрой топографической анатомии и оперативной хирургии медицинского факультета.
Потрясения, вызванные революцией и гражданской войной, усилили религиозность ученого. 2 февраля 1921 года он был рукоположен в священники. С 31 мая по 10 июня 1923 года — епископ Туркестанский и Ташкентский. С 1923 по 1933 годы с небольшими перерывами находится в ссылках и тюрьмах, но и там не оставляет ни своего священнического служения, ни своей медицинской практики и научной работы. В 1934 году, когда он был епископом Красноярским, в свет выходят его «Очерки гнойной хирургии», получившие блестящую опенку специалистов. С 8 сентября 1943 года — постоянный член Св. Синода, архиепископ. За книгу «Очерки гнойной хирургии» в 1944 году был представлен к Государственной премии первой степени (получил в 1946 году). Епископ Тамбовский (1944). По состоянию здоровья в 1946 году оставляет врачебную деятельность. С 1946 года — архиепископ Симферопольский и Крымский. Почетный член Московской духовной академии. Умер 11 июня 1961 года в Симферополе. В 1995 году архиерейский собор Украинской православной церкви Московского патриархата причислил архиепископа Луку к лику святых. 18 марта 1996 года состоялось «обретение святых останков архиепископа Луки, которые 20 марта были перенесены в Свято-Троицкий Кафедральный собор Симферополя… Высокопреосвященный Владыка Лазарь освятил место в поселке Кацивели для строительства храма в честь святителя Луки».
Перу В.Ф. Войно-Ясенецкого принадлежат 36 научных трудов по медицине и 11 томов религиозных проповедей [50.]. Кандидатом в епископы собора Туркестанского духовенства отца Валентина рекомендовал бывший Уфимский владыка Андрей (Ухтомский), в то время среднеазиатский ссыльный. Он же и постриг его тайно в монахи, — это было необходимой ступенью к возведению отца Валентина в сан епископа под именем Луки, так как по преданию евангелист и апостол Лука был иконописцем и врачом.
Обряд[3] рукоположения (хиротония) требовал участия двух архиереев. В Пенджикенте (таджикский городок в 70 км от Самарканда) в это время отбывали ссылку епископ Даниил (Волховский) и епископ Василий (Суздальский). Владыка Андрей тайком помогает иеромонаху Луке переправиться в Пенджикент. Об отъезде из Ташкента архиепископ Лука вспоминал: «Я назначил на следующий день для отвода глаз четыре операции, а 29 сам вечером уехал в Самарканд в сопровождении одного иеромонаха, диакона, и моего старшего девятнадцатилетнего сына. [Вечером 30 мая они уже были в Пенджикенте]. Преосвященные Даниил и Василий, прочитав письмо Андрея Ухтомского, решили назначить назавтра литургию для совершения хиротонии и немедленно отслужить вечерню и утреню в маленькой церкви Святителя Николая Мирликийского, без звона и при закрытых дверях… Архиереем я стал 18/31 мая 1923 года» [47., С.77-78].
10 июня 1923 года владыку Луку арестовали. Однако за эти 10 дней им, как епископом Туркестанским и Ташкентским, было сделано немало для разъяснения среди верующих православных сути предательства «живоцерковников». Да и своим личным примером новый владыка стимулировал духовенство быть верным традициям ортодоксального православия.
1917-1941 годы — самые сложные и критические для Русской православной церкви. Согласно Конституции РСФСР 1918 года (ст. 65), а затем и Конституции Туркестанской Республики 1920 года (ст. 86, 87), монахи и духовные служители церквей и религиозных культов не имели права избирать и быть избранными в советы, а приказ СНК Туркестанской Республики от октября 1918 года лишал монахов и духовных служителей церкви права на бесплатное лечение и содержание в местных лечебных заведениях [51., С.10]. В то же время прослеживается позитивное отношение государства к отдельным неправославным сектантским общинам.
Антирелигиозная борьба с христианскими конфессиями иногда происходила с попеременным успехом: в ряде случаев неправомерные решения большевиков даже отменялись. Старообрядцы — уральские казаки, чуждавшиеся не только местного населения, но и остальных русских, сразу стремились селиться монолитно, что способствовало консервации их религиозных традиций [42., С.686, 695]. Вот почему уже в первые месяцы установления еще довольно зыбкой советской власти в Аму-Дарьинском отделе кое-кто из местных властей «в Туркестане запретил казакам отправление церковных служб, служб с колокольным звоном, празднование Пасхи и т.п. Это их озлобило». Однако вскоре, во время мятежа казачества весной 1919 года, советские органы в тактических целях все запреты в отношении религии казаков-староверов отменили. По согласованию с их старейшинами «разрешалось казачье самоуправление согласно их обычаям, с учетом социально-культурных условий и особенностей их быта». Однако впоследствии многие из достигнутых «льгот» были отняты вновь [52., С.11,15].
В 1922-1929 годах был принят еще ряд законов, ущемляющих права лиц, причастных к религиозной деятельности. По мнению правоведа А.Т. Юнусовой, принятое 8 апреля 1929 года ВЦИК и СНК РСФСР Постановление «О религиозных объединениях» представляло собой «документ грубейшего вмешательства государства вдела религиозных организаций. Имея целью отделение церкви от государства, ВЦИК и СНК РСФСР фактически поставил религиозные организации и верующих под постоянный и неослабный контроль со стороны местных органов власти. Провозглашая на словах свободу совести, свободу религиозной пропаганды, равенство верующих и атеистов, постановление наделе сводило свободу совести до унизительного минимума» [51, С.11].
В этот период проводится беспощадный массовый террор против духовенства, ведется борьба с религиозной культурой. Большое количество священников публично отрекается от христианства. Однако это был не искренний отказ от веры, а желание оградить себя от репрессий. И при всем том в Средней Азии отношение к православной церкви и другим религиозным учреждениям было более щадящим, нежели в России. По воспоминаниям очевидцев, в 1924-1927 годах в Среднеазиатском государственном университете «группа профессоров вела глубокое изучение Евангелия… Раз в неделю кто-нибудь из них выступал в кругу коллег со словом на евангельскую тему. В эту группу, кроме профессоров, входила молодежь» [53., С.79].
В Узбекистане до начала 30-х годов процент действующих культовых зданий от их дореволюционного количества оставался более высоким, чем во многих других регионах страны [54., С.56]. Позднее, однако, картина постепенно изменилась.
Староцерковники формально делали вид, что объединились с обновленцами, но на самом деле находились в скрытой оппозиции к новой власти и служителям новой церкви. Последние надеялись открыть в Ташкенте богословский институт, отвечающий требованиям нового времени, но их надежды так и не оправдались. Разрушенными и оскверненными оказались самые достопримечательные православные святыни Центральной Азии, за исключением нескольких (Алматы, Самарканд и др.). Варварски уничтожаются костелы в Ашхабаде и Кызыл-Арвате, кирхи Алма-Аты и Ашхабада.
В результате антирелигиозной политики, а также страшного землетрясения 1948 года в Ашхабаде из всех культовых зданий сохранилась единственная православная церковь Александра Невского в селе Коши. Закрываются и в большинстве случаев сносятся армянские церкви. Сначала сокращаются, а позднее (осенью 1937 г.) совсем распускаются римско-католические и евангелическо-лютеранские общины. В районах с распространенным сектантством не учитывалось то обстоятельство, что после закрытия всех церквей часть православных начинало посещать их молитвенные дома [54., С.57].
После 1937 года религиозная жизнь в среднеазиатском регионе, как и по всей стране в целом, еле теплится. С 1927 по 1936 годы во главе малочисленного клира стояли видные священнослужители — бывший ссыльный митрополит Никандр (Феноменов), бывший репрессированный митрополит Новгородский Арсений (Стадницкий). Протестуя против грубого нарушения законодательства о свободе совести и конституционных гарантий, против разрушения христианской морали, известный русский физиолог И.П. Павлов, сам глубоко верующий человек, в 1930 году обратился в Совнарком с письмом: «По моему глубокому убеждению, гонение нашим Правительством религии и покровительство воинствующему атеизму есть большая и вредная последствиями государственная ошибка. Религия есть важнейший … охранительный инстинкт» [51., С.11].
Об этих грубых болезненных перекосах в политике партии упоминает Сталин в небольшой статье «Головокружение от успехов», изданной в 1930 году. В ней делается упрек в адрес партийных работников, которые организацию артели «начинают со снятия с церквей куполов» [55., С.198].
Корни подобного грубого извращения принятых конституционных актов по отношению к духовенству были осознаны только после обнародования (через 70 лет) письма Ленина к Молотову, где говорилось: «Провести секретное решение съезда о том, что изъятие ценностей, в особенности самых богатых лавр, монастырей и церквей, должно быть произведено с беспощадной решительностью, безусловно ни перед чем не останавливаться и в самый кратчайший срок. Чем больше число представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать» [51., C.11].
В результате репрессивной государственной политики в 20-40-е годы этнический состав верующих христиан в республиках Средней Азии и Казахстана заметно расширился. В 1935 году в Ташкентскую область было выслано 3000 финнов-ингерманландцев из общин на советско-финской границе родственным по вероисповеданию немцам, проживавшим в крае, в том числе и в Ташкентской области [4., с. 43]. Сюда депортировались корейцы, поляки, немцы и др.
Так, в Кыргызстан в 1940 году было выслано 21 500 польских граждан, арестованных в западных районах Украины и Белоруссии после реализации пакта Риббентропа-Молотова. В 1941 году их амнистировали. 1197 учащимся-полякам было предоставлено право учиться на родном языке [56, с. 79]. Это было время, когда элементарные религиозные обряды, которых придерживались деды и прадеды верующих в самые счастливые или печальные дни, нелегко было исполнять даже в местах, где малочисленные народы жили в условиях диаспоры.
18 февраля 1936 года скончался преосвященный Арсений. «По-видимому за неимением кандидатуры архиерея, могущего возглавить православных верующих всей Центральной Азии, Патриарший местоблюститель митрополит Сергий (Старгородский) издал указ о разделении епархии. Титулом архиереев с кафедрой в Ташкенте становилось «Ташкентский и Среднеазиатский». Создавалась отдельная Казахстанская епархия с титулом правящих епископов «Алма-Атинский и Казахстанский»» [56-а.].
Несколько изменилось отношение к церкви в суровые годы второй мировой войны. Русская православная церковь всегда разделяла судьбу народа, вставала на защиту его национального достоинства. Она сыграла, также, как и другие религиозные объединения страны, огромную пропагандистскую роль в защите Отечества от германского фашизма, сделала большие денежные взносы в Фонд обороны. Государство было вынуждено пойти на относительную нормализацию взаимоотношений церквей и властей.
Многим священнослужителям за их ратный подвиг в годы войны 1941-1945 годов были вручены правительственные награды, в том числе — архиепископу Луке, протоиереям Михаилу (Серебрякову) и Анатолию (Синицыну) из Алма-Аты [57., С.44].
Во время войны Сталин «по просьбе митрополита Гор Ливанских Илии выпустил священников из тюрем»[4].
С 1943 года отдельные храмы вновь стали возвращаться церкви, а некоторые даже возводились за счет государства. Чаше верующим передавались скромные молитвенные дома, поскольку старые храмы уже приобрели новых хозяев. В начале второй мировой войны не только в Янгиюльском районе Ташкентской области, но и в других пунктах Узбекистана и Кыргызстана располагались польские воинские формирования. Среди них были свои священники. О пребывании здесь поляков фактическими свидетельствами являются многочисленные захоронения их соотечественников этого времени.
Во время войны и в первые послевоенные годы многочисленные церкви Среднеазиатской епархии (в 1945-1946 годы ее возглавлял епископ Кирилл (Поспелов)) всегда были переполнены мирянами. Ведь только в Узбекистане численность эвакуированных из временно оккупированных территорий России, Украины, Белоруссии, Молдовы и Прибалтики составляла около 1 млн. человек [58., С.42]. Но церковная «оттепель» продолжалась недолго [59., С.87]. И все же, по данным архива Комитета по делам религий при Кабинете Министров Республики Узбекистан, в регионе время от времени создавались впервые или восстанавливались прежние православные приходы. Были случаи открытия церквей и в 1948 году, а затем в 1955 году.
В 1947 году заново оформилась община адвентистов седьмого дня, в 50-х зарегистрирована ташкентская община баптистов. Оживляется деятельность таких сектантских объединений, как истинно православные христиане, молокане, христиане евангельской веры и др.
В 1947 году Св. Синод назначает главой Ташкентской и Среднеазиатской епархии митрополита Гурия (Егорова), который осуществлял руководство ею до 1953 года. Как охарактеризовал его владыка Владимир, это был в прошлом «знаменитый основатель православных братств Санкт-Петербурга и сибирский заключенный, в будущем — восстановитель Троицко-Сергиевской лавры и глава Ленинградской епархии» [3., С.136]. В последние годы своей жизни преосвященный Гурий возглавлял Симферопольскую кафедру. Умер в 1965 году.
В послевоенные годы советское руководство начало понимать значение религиозных моментов в мировой политике. Епископ Гурий, равно как руководители и других епархий страны, призвал местных прихожан поставить свои подписи под Стокгольмским воззванием, а чуть позднее – под обращением Всемирного Совета Мира.
В конце второй мировой войны в Среднюю Азию были высланы из Крыма и Кавказа (в основном в районы Южного Казахстана и частично в Узбекистан) местные понтийские греки вместе со своими священниками. А осенью 1949 года только в Узбекистан прибыло более 7 тыс. участников Сопротивления (всего с детьми 11 тыс. 972 чел.) из Греции. В отдельных случаях верующие из греческих семей (в основном из смешанных браков) для удовлетворения религиозных нужд — крещения, венчания, — посещали молитвенные дома понтийских греков или русские православные церкви. В настоящее время эта традиция сохраняется.
В Казахстане, начиная с 1954 года, наблюдается значительный приток восточнославянского населения в связи с освоением целинных и залежных земель, правда с очень небольшим процентом верующих. Но в последующем русскоязычные села явились базой для открытия новых православных приходов.
И хотя период открытой конфронтации остался позади, постепенно права верующих в бывшем Союзе вновь начинают ущемляться. Церковь и государство в некоторых юридических и социальных вопросах идут на компромиссы. Церковь вновь делает уступки. Так, на ташкентском совещании настоятелей молитвенных домов Кыргызстана и Узбекистана в 1952 году было «признано необходимым прежде совершения бракосочетания церковного требовать регистрации брака гражданской властью, что являлось единственной гарантией от злоупотреблений» [60.].
С 1953 по 1960 годы Ташкентскую и Среднеазиатскую епархию возглавлял епископ Ермоген (Голубев), прежде репрессированный. До этого он являлся архимандритом — настоятелем Покровского собора в Самарканде. Свою архипастырскую службу владыка Ермоген начал с капитальной реконструкции Свято-Успенского Кафедрального собора в Ташкенте. Этот самовольный акт был расценен местными властями как прямой вызов государственной политике, хотя на словах декларировалась свобода отправления религиозных культов. Парадоксально, но в конце 50-х годов ташкентский горсобес, за недостатком средств, часто рекомендовал нуждающимся обратиться в церковь. И преосвященный Ермоген помогал всем, оказавшимся в беде [61.].
В 1960-1971 годах Ташкентскую и Среднеазиатскую епархию возглавлял владыка Гавриил (Огородников). При нем, 16 марта 1961 года, издается для служебного пользования союзная «Инструкция по применению законодательства о культах», разработанная и утвержденная Советом по делам религиозных культов и Советом по делам Русской православной церкви. Во всех республиках при местных органах власти были созданы специальные комиссии, содействовавшие выполнению этой инструкции.
Подобные же документы были приняты постановлениями правительств Таджикистана (1967), Туркменистана (1968) и Узбекистана (1969). Они действовали по существу до начала 90-х годов [62., С.136-147, 155-156, 159-160].
Конец 60-х и 70-е годы в целом по стране отличались относительной стабильностью в отношениях между государством и официальными конфессиями. В это время в сане епископов местной епархии пребывали преосвященные Платон (Лобанков — 1971) и Варфоломей (Гондаровский — 1972-1987). Именно епископу Платону выпала честь возглавлять юбилейные торжества — 100-летие Ташкентской и Среднеазиатской епархии, отмечавшееся 11 июня 1972 года в Ташкенте. По этому случаю в день Всех святых российских в Свято-Успенском Кафедральном соборе в сослужении сонма духовенства состоялась божественная литургия. В память об этом событии установлена на фасаде здания собора мемориальная плита.
В 70-е годы в Средней Азии не было ни одной зарегистрированной евангелическо-лютеранской общины. Маленькие немецко-говорящие группы верующих собирались в частных домах и на кладбищах [4., С.72]. Первые евангелическо-лютеранские приходы появились в этих краях только в конце 70-х — начале 80-х годов. Обрусевшие верующие армяне, поляки, литовцы и другие представители национальных меньшинств долгое время вынуждены были ориентироваться на Русскую православную церковь. При составлении Свода памятников культурного наследия почти все сохранившиеся строения культового зодчества были включены в списки памятников республиканского или местного учета и взяты пол государственную охрану. Правда, Закон об охране памятников истории и культуры не всегда четко срабатывал. Но отдельные факты разрушения культовых построек ныне связываются скорее не с антирелигиозной государственной политикой, а с просчетами архитекторов-градостроителей.
Отдельные, наиболее выдающиеся по своим архитектурным формам христианские храмы разных конфессий реставрируются и приспосабливаются под концертные и выставочные залы, музеи и другие культурно-просветительные учреждения. Последние трудные времена в истории религиозной жизни Узбекистана приходятся на конец 70-х — начало 80-х годов, когда вновь оживляется борьба с «религиозными суевериями и предрассудками», народными обрядами и традициями. Священнослужителям православных храмов делаются выговоры за незаконную установку религиозных символов на куполах действующих церквей (в Джизаке и др.).
С началом перестройки в целом по Союзу происходит постепенная нормализация отношений между различными конфессиями и государством. В частности, значительные уступки делаются Русской православной церкви. В свою очередь православная церковь пытается реставрировать некоторые церковные традиции [6., С.16]. Согласно программе празднования 1000-летня крещения Руси во всех храмах Центральной Азии состоялись торжественные богослужения, во многих городах проходили концерты духовной музыки. Показательно, что к этой знаменательной дате выдающийся узбекский художник Баходыр Джалалов написал красочное панно «Красная золотая Русь» и ввел его в оформление интерьера школы имени Чкалова в Чкаловске (Таджикистан).
В конкурсе, объявленном Св. Синодом в честь 1000-летия крещения Руси, и подготовке проекта храма Святой Троицы в Царицыно (Москва) наряду с российскими архитекторами участвовали и казахстанские зодчие института Казгорстройпроекта под руководством главного архитектора Ю.Г. Ратушного. Из 360 представленных работ казахстанская в числе других четырех проектов победила в первом туре. Русская православная церковь содействует единению мирового сообщества, участвует в борьбе за безъядерный мир.
Почти четыре года (1987-1990) нес пастырское послушание в Средней Азии епископ Ташкентский и Среднеазиатский Лев (Церпицкий – ныне архиепископ Новгородский). От имени церкви он передал в Узбекистанский республиканский Детский Фонд 140 тыс. рублей. Это было самое крупное пожертвование [63.]. Он оказывает материальную помощь пострадавшим от землетрясения в Армении, вносит пожертвования в другие общественные организации. Владыка был избран членом Республиканского правления Общества охраны памятников истории и культуры Узбекистана и Фонда культуры.
В 1987 году в Ташкенте впервые в истории состоялся официальный контакт между православным и мусульманским духовенством. Тогда было организовано несколько спокойных разумных Диалогов между священнослужителями обеих религий по проблемам мира и равенства людей независимо от их вероисповедания. Обе стороны пришли к заключению, что открытые встречи должны быть продолжены.
Следующий аналогичный диалог проводился в 1995 году и вновь в Ташкенте. В международной христианско-мусульманской конференции, девиз которой «Совместно жить под одним небом», приняли участие муфтии Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Таджикистана, деятели других конфессий государств Центральной Азии, представители Всемирного совета церквей.
В 1978 году уже фактически официально действовало объединение римских католиков численностью 30 человек в Чирчике.
В 1983 году была зарегистрирована евангелическо-лютеранская община в Фергане. Через четыре года в этом городе зарегистрирован и римско-католический приход. В 1989 году возрождается римско-католический приход в Ташкенте. В 1990 году в Узбекистане на базе некоторых конфессий, исповедующих Библию, создается Библейское общество.
Распад тоталитарной системы и вхождение в мировое сообщество молодых независимых государств Центральной Азии вдохнули новую живительную струю в развитие духовной жизни всех народов этих стран. Это ясно на примере Республики Узбекистан. В 1991 году здесь был принят Закон «О свободе совести и религиозных организациях», в котором четко сказано: «Государство способствует установлению отношений взаимной терпимости и уважения между гражданами, исповедующими различные религии и не исповедующими их, между религиозными организациями различных вероисповеданий, не допускает религиозного фанатизма и экстремизма действиями, направленными на противопоставление и обострение отношений, разжигание вражды между конфессиями и сектами».
Принятый новый Закон «О собственности» Республики Узбекистан возвратил религиозным организациям права на собственность. На основании закона теперь в собственности религиозных организаций могут находиться здания, предметы культа, объекты производственного, социального и благотворительного назначения, денежные средства и иное имущество, необходимое для обеспечения их деятельности. Религиозные организации имеют право на имущество, приобретенное и созданное ими за счет собственных средств, пожертвований граждан.
Закон «О земле» возвратил права на землю. [51., С.3]. С 1993 года Ташкентское епархиальное управление Русской православной церкви — Московского патриархата — издает еженедельник «Слово жизни».
В настоящее время[5] в Республике Узбекистан официально существуют конфессии: ислам, православие, иудаизм, буддизм, а также Римско-католическая церковь, Евангелическо-лютеранская церковь. Евангельские христиане-баптисты. Христиане полного Евангелия, Новоапостольская церковь, Христиано-пресвитерская церковь, Свидетели Иеговы (в Чирчике и Фергане), Международное общество сознания Кришны, Духовное собрание Бахаи.
Только при Ташкентской и Среднеазиатской епархии Русской православной церкви сегодня функционирует почти 40 приходов, два монастыря, одно училище[6], готовящее духовных пастырей.
В последние годы Республику Узбекистан часто посещают пасторы Южной Кореи и Америки. Их цель — приобщение местных корейцев (в 1937 году их было депортировано в Узбекистан около 180 тыс. человек), находившихся до сих пор в изоляции от духовной жизни, к христианству — претворяется в жизнь [58., С.42; 64., С.6].
В 1993 году в Самарканде армянской общине было возвращено исторически связанное с ней здание — церковь св. Богородицы. В настоящее время ее прихожане готовятся достойно отметить круглую дату — 1700-летие Армянской апостольской церкви, юбилей которой состоится в 2001 году. Это пока единственная армянская действующая церковь в Центральной Азии.
Государство оказывает помощь религиозным организациям в проведении культурных мероприятий международного характера. Принципиальное значение имеет признание того факта, что религиозные организации, будучи отделенными от государства и школы, не отделены от общества, его социально-культурной и других сфер жизни. С 1992 года настоятелем ташкентского римско-католического прихода под воззванием Святейшего Сердца Иисуса является францисканец из Польши — отец Кшиштоф Кукулка. Помимо большой работы с мирянами он отдает много сил восстановлению из руин костела, а также созданию на базе храма культурного центра католической общины. Служба в костеле ведется на английском (для иностранных граждан), польском и русском языках. Отец Кшиштоф с большим интересом изучает историю христианства в Центральной Азии.
В 1995 году был открыт римско-католический приход в Самарканде. До 1991 года, помимо Узбекистана, Римско-католическая церковь уже действовала в Кыргызстане и Таджикистане, но особенно активно в Республике Казахстан. Декретом Святейшего отца Иоанна Павла II от 13 апреля 1991 года была установлена Апостольская Администратура Казахстана и Средней Азии. Управление Апостольской Администратуры, которую ныне возглавляет епископ Ян Павел Ленга, находится в Караганде.
На территории Центральной Азии сейчас проживает более 200 тысяч католиков. Среди них работают 40 священников и почти 39 столько же сестер-монахинь (миссионерок милосердия и др.). Большинство из них — приехавшие сюда иностранцы.
С сентября 1994 года в Алматы прибыл и стал выполнять свою миссию Апостольский нунций, архиепископ Мариан Олесь, который одновременно является нунцием Казахстана и стран Средней Азии, за исключением Туркменистана. 29 сентября 1997 года его Святейшество Иоанн Павел II специальным декретом создал в Узбекистане, Кыргызстане и Туркменистане независимые от Апостольской Администратуры Казахстана три отдельные юридические единицы, так называемые «Missio sui iuris», обозначающие, что с этого времени назначенные им священники, возглавляющие данную поместную церковь, являются ответственными только перед Римским Первосвященником. В Узбекистане назначен на этот пост отец Кшиштоф Кукулка, в Таджикистане — отец Карльос Авила, в Туркменистане — отец Анджей Мадей.
С 20 июля 1990 гола Ташкентская и Среднеазиатская епархия, возглавляемая сначала епископом, а с 23 февраля 1991 года — архиепископом Владимиром (Иким), распространяет свое влияние на Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан. Осенью 1996 года все христиане республик Центральной Азии торжественно отметили 125-летие Ташкентской и Среднеазиатской епархии. Это торжество ознаменовалось прибытием Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II. Празднично выглядели в эти дни православные храмы Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. 9 ноября его Святейшество провел в Ташкенте всенощное бдение, а уже на следующее утро отслужил торжественную литургию в Свято-Успенском соборе города. В своем обращении к пастве он заострил внимание на глубоком понимании и согласии, в котором живут здесь сегодня последователи ислама и православия, призвал к совершенствованию нравственных качеств, которые содействуют достижению всеобщего мира. Под сводами Кафедрального храма прозвучали слова о роли церкви в воспитании духовности человека. А вечером прошел торжественный прием, посвященный 125-легию Ташкентской и Среднеазиатской епархии Русской православной церкви.
Президент Республики Узбекистан И.А. Каримов в своем послании участникам торжества подчеркнул, что вся история сосуществования мусульман и христиан на земле Узбекистана являет собой редкий пример религиозно-духовной жизни и достойна считаться одним из лучших образцов веротерпимости. Проникнуться глубиной Божьей любви ко всем, в полной мере чувствовать свою ответственность за судьбу человечества и неустанно заботиться о нравственном совершенствовании общества — все это важные факторы прогресса [65.].
Патриарх посетил ташкентские православные церкви и Троицко-Никольский женский монастырь, освятил закладку Духовно-административного центра при Свято-Успенском соборе. Затем он прибыл в Самарканд, где освятил крупнейший храм республики, возрожденный к новой духовной жизни Алексиевский собор. Храм этот был возведен в 1912 году во имя святителя Московского Алексия и предназначался для воинского гарнизона Самарканда. С 1920-х годов храм был закрыт и использовался не по назначению. В 1991 году здание было возвращено верующим, в нем ведутся восстановительные работы. Был водружен колокол, восстановлен иконостас.
Торжественные акции, посвященные 125-летию Ташкентской и Среднеазиатской епархии, состоялись и в других республиках Средней Азии. И везде Патриарх отмечал, что встречает доброжелательность и миролюбие людей всех национальностей и вероисповеданий при ярком своеобразии национальных культур. В эти знаменательные дни в Государственной библиотеке имени Навои была организована книжно-иллюстративная выставка из фонда редких книг.
Настоящей жемчужиной в уникальной коллекции старинных книг явилась Библия — «Острожская книга» Ивана Федорова, изданная в 1581 году в городе Остроге на Волыни. Библия была подготовлена на основе рукописи, присланной первопечатнику Иоанном Грозным. Первое издание ее было осуществлено 12 июля 1580 года, второе — 12 августа 1581 года. Экземпляр, экспонировавшийся на выставке, является этим вторым изданием и представляет «выдающуюся редкость и большую культурную ценность». Любопытна легенда, связанная с данным раритетом. Он был приобретен библиотекой в 1943 году у гражданина А. Ашуркова. По его словам, Библия находилась в его роду со времен Стрелецкого бунта при Петре I. Когда владелец книги бежал (или был сослан) из Москвы на Урал, он увез с собой экземпляр данной Библии. Она находилась на Урале более 200 лет и попала в Среднюю Азию незадолго до второй мировой войны [66., С.94-95]. В фонде этой же библиотеки хранится редчайшая «Девятая немецкая Библия», напечатанная в XV веке.
Одновременно отмечался вековой юбилей единственной в Центральной Азии старинной евангелическо-лютеранской церкви в Ташкенте. Зарубежные гости с интересом знакомились с книгой о жизни немецкой общины в Узбекистане. В торжественной обстановке с 14 по 19 декабря 1996 года прошел IV Синод епархии евангелическо-лютеранской общины в Узбекистане, на котором было высказано предложение именовать ташкентскую кирху в соответствии с пожеланиями ее членов церковью Воскресения Иисуса Христа. Необходимо отметить, что с 1988 года евангелическо-лютеранские общины в Узбекистане вместе с общинами в России, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане относились к Союзной немецкой евангелическо-лютеранской церкви, которой руководил епископ Харальд Калнинь из Риги. С образованием независимых республик Средней Азии ускорился процесс образования самостоятельных епархий в этих странах. Епископским уполномоченным по Средней Азии является Штефан Редер. Главой Евангелическо-лютеранской церкви в России, на Украине, в Казахстане и Средней Азии является епископ Георг Кречмор.
В ноябре 1993 года состоялся Учредительный Синод евангелическо-лютеранских общин Узбекистана. На богослужение по поводу открытия Синода пришли представители Русской православной церкви, Римско-католической церкви и Союза евангельских христиан-баптистов. Вновь образованную немецкую евангелическо-лютеранскую ташкентскую общину (1990) возглавляет председатель Корней Вибе, который одновременно является пропетом епархии евангелическо-лютеранских общин (6 приходов) Узбекистана. Благодаря его стараниям и таланту, вековое здание кирхи стало центром духовности и религиозной просвещенности местных жителей.
В центре столицы Республики Туркменистан строится монументальный православный собор.
Происходят позитивные перемены и в жизни православной церкви Таджикистана. Ее приходы действуют в Душанбе, Ходженте, Чкаловске, Курган-Тюбе и Турсун-Заде. В столице республики церковь имеется и при военной части. В 1989 году в Душанбе был построен римско-католический костел.
В постсоветское время более всего сторонников православия стало в Республике Казахстан. Здесь образованы Алматинская и Семипалатинская, Шымкентская и Акмолинская, Уральская и Гурьевская епархии. В их ведении находится около 120 церквей. Издается религиозная газета «Свет православия в Казахстане». Православные казахстанцы поддержали политику правительства, направленную на становление правовых норм и приняли активное участие в различных социально-благотворительных и политических акциях, целью которых является достижение общественного мира и национального согласия в стране [67., С.170, 171].
В Кыргызстане в становлении новой государственности, основанной на ценностях свободы, демократии, межнационального и 42 межконфессионального мира достойный вклад вносит Русская православная церковь (около 50 приходов), которая также усиленно ведет работу по созданию гражданского согласия и созидательного труда в республике. Одновременно действует старообрядческая церковь и один храм Русской православной церкви за границей. В суверенном Кыргызстане зарегистрировано ещё ряд религиозных организаций христианской направленности. В Бишкеке имеется Римско-католическая церковь, существующая как самостоятельный орган. В селе Люксембург находится епархия евангелистов-лютеран, насчитывающая 500 человек (немцев и русских). С 1996 года лютеране издают свою газету «Eparchic Nachrichhen», поддерживающую единство своих общин в республике. Действует также церковь христиан-баптистов, имеющая свои Союз церквей евангелистов христиан-баптистов (около 30 молельных домов), который возглавляет председатель. На территории Чуйской долины функционирует Союз объединенной церкви христиан веры евангельской (пятидесятники), возглавляемый старшим епископом. Адвентисты седьмого дня находятся в подчинении южного объединения церквей, вопросы которого решает конференция. Насчитывается 16 церквей (2 группы). Приверженцами этой церкви в основном являются представители европейского происхождения. Существует одна Новоапостольская церковь, центр которой находится в Германии. За последние годы открылось около 20 протестантских церквей. Руководителями последних являются пастыри из Южной Кореи. Кроме того, в республике зарегистрировано несколько харизматических церквей [68.].
За свою двухтысячелетнюю мировую историю христианство переживало периоды взлетов и падений, но деятельность его не прекращалась, в том числе и в среднеазиатском регионе. На пороге XXI века вопросы духовного согласия здесь стали решаться на основе взаимного уважения различных конфессий, а также доброжелательности верующих как к иноверцам, так и атеистам. Это тот фундамент, на котором общество может жить стабильно и продвигаться вперед.
Литература и источники
- Мусин А.Е. К вопросу о перспективах изучения русской церковной культуры в Российской археологии // Археологический вестник, СПб, 1993, № 2.
- Из истории древних культов Средней Азии. Христианство. — Ташкент. 1994.
- Владимир, архиепископ. Слово в день памяти святого апостола Фомы // Слово жизни, 1993, №№ 103-104. 43.
- Из истории Евангелическо-Лютеранской (Церкви в России, на Украине, в Казахстане и Средней Азии. СПб. 1996; 100 лет Евангелическо-Лютеранской Церкви в Ташкенте. — Ташкент, 1996.
- Григорьянц А.А. Армяне в Средней Азии. — Ереван, 1984.
- В Ташкенте также подготовлена кандидатская диссертация, посвященная специфике христианства в Средней Азии. См. Мазуренко Е.А. Эволюция русского православия в условиях Средней Азии. Автореферат. — Ташкент, 1990.
- Древний Мерв в свидетельствах письменных источников (сост. Г.А. Кошеленко, А. Гаибов, А.Н. Бадер, В.А. Гаибов) — Ашгабат, 1994; G. Koschelenko, A. Beder, V. Gaibov. The beginning of chridtsanity in Merv, Jranica Antiqua, vol.XXX, 1995, p.55-70.
- Sogdische Tecste, and TWKM uller — Sitzungsberiehte de Preussischen Akademie dcr Wissenschaften. Philosophisch historische Klasse, XXVII, 8, Berlin, 1934.
- Всемирная история, т. Ill, — M., 1957.
- Свенцицкая И.С. Раннее христианство; страницы истории. — М., 1989.
- Деяния Фомы освещены в исследовании архиепископа Ташкентского и Среднеазиатского владыки Владимира «Путь Святого Апостола» // Звезда Востока, 1994, № 7-8.
- Материалы по истории туркмен и Туркмении. — М.-Л., 1939.
- Ат Табари. История ат Табари. — Ташкент, 1987.
- Пугаченкова Г.А. Пути развития архитектуры Южного Туркменистана поры рабовладения и феодализма. — М., 1958. З.И. Усманова связывает Хароба Кошук с монастырем в пределах Мерва, внутри Гяур-калы (см. Усманова З.И. Христианские памятники Туркмении // Из истории древних культов Средней Азии. — Ташкент, 1994, С. 27-29), чему, однако противоречит описание шатра Мара Георгия в местности выше Мерва. Так Самани сообщает о нахождении Зарака в 6 фарсахах от Мерва.
- Исхаков М.И., Ташходжаев Ш.С., Ходжайлов Т.К. Раскопки Кош-тепа, ИМКУ, вып.13. — Ташкент, 1977.
- Bogomolov G.J., Burjakov Jv.F. Sealdings from Kanka — In the Land of the Gziphons. Papers on Central Asian archaeology in antiquity. Edited by Antonio Jhvernizzi. Roma. 1994.
- Из письма В.А. Лившица Г.А. Пугаченковой в сентябре 1996 г.
- Атаханов Т.М., Хмельницкий С.Г. О работе Шаартузского археологического отряда в 1968-1970 гг. Археологические работы в Таджикистане, вып. 10. — М., 1973; Climelnizkiy S. Zwischcn Kuschancn und Arabern. Die Architektur Miltesasiens im V.—VIII. Jh. Berlin, 1989, s. 172-174.
18-a. Маршак Б.И., Распопова В.И. Согдийцы в Семиречье // Древний и средневековый Кыргызстан. — Бишкек. 1996.
- Правда Востока. 18 июля. 1997.
- Джумагулов Ч. Эпиграфические памятники Киргизии // Памятники Киргизии. Вып. 1, 1970.
20-а. Иманкулов Д.Д. Новое о Таш-Рабате // Древний и средневековый Кыргызстан. — Бишкек, 1996. Пугаченкова Г А. О Таш–Рабате // Труды Института языка, литературы и истории Киргизской ССР. вып. III /Фрунзе, 1952. С.213-218.
- Гундогдыев О. Христианская церковь в Туркменистане. — Ашгабат, 1993.
- Revctemt Joseph Wolff, Researches and Missionary Labours among the Jews. Mohammedans, and other Sects during his travels between the years 1831 and 1834, from Malta to Egypt, Constantinople, Armenia, Persia, Khorossaun, Toorkestaun, Bokhara, Balkh, Cabool in Affghanistaun, the Himalaya Mountains, Cashmeer, Hindooshaun, the Coast of Abyssinia, and Jemen. 1st American Edition, Revised and Corrected by the Author, Philadelphia 1837.
- Хрисанф, Митрополит Новопатрасский. О странах Средней Азии, посещаемых в 1790 годах. С введением и объяснением В.В. Григорьева. — М., 1861.
- Соғунний Алихонтура Тарихи Мухаммадий, т. I, — Тошкент, 1991.
24-а. Народы Средней Азии и Казахстана, т. 2, М., 1963.
- ЦГА РУз. ф. п-1. оп.6. д.27, л.135-137.
- Первая всеобщая перепись населения Российской империи. 1897 г. LXXXIII. Самаркандская область, 1905.
- Следует иметь в виду, что открытие прихода не равнозначно открытию церкви. В Туркестане между открытием прихода и постройкой церкви для него нередко проходил значительный промежуток времени. Но бывало и наоборот — строился храм и лишь через несколько лет открывался приход.
- Яковлев В.А. Из церковной жизни Туркестана. — Верный, 1902.
- Чернавский Н. Оренбургская епархия в прошлом её и настоящем., вып. I — Оренбург, 1900.
- Добросмыслов А.И. Ташкент в прошлом и настоящем. — Ташкент, 1912.
- Абдурахимова Н.А. Из истории туркестанского чиновничества второй половины XIX — начала XX вв. // Вопросы социально-экономической истории дореволюционного Туркестана. Труды ТашГУ — Ташкент, 1965.
- Любимов П.П. Религия и вероисповедный состав населения Азиатской России. — Петроград, 1914.
- ЦГИА России, ф. 796, оп. 440, д. 798, л. 79.
34 ЦГИА России, ф. 796, оп. 442, д. 2767, л. 1.
- Заозерский Н. О священной и правительственной власти и о формах устройства православной церкви. — М., 1891.
- ЦГИА России, ф. 796, оп. 440, л. 798, л. 170.
- ЦГИА России, ф. 796, оп. 442, д. 1595, л. 1.
- ЦГИА России, ф. 796, оп. 442, д. 2246, л. 1.
- Туркестанские епархиальные ведомости. 1912, № 18, № 21. С. 501.
39-а. Матвеев А.М. Из истории европейских выходцев в Туркестане после Февральской революции // Материалы по истории, историографии и археологии. Труды Таш ГУ 482, — Ташкент, 1976.
- Надточий О.П. Югославянские военнопленные в Туркестане (1914-1917) //Вопросы социально-экономической истории дореволюционного Туркестана. — Ташкент. 1985.
- Матвеев А.М. Зарубежные выходцы в Туркестане на путях к Великому Октябрю. — Ташкент, 1977.
- Народы Средней Азии и Казахстана, т. 2, М., 1963.
42-а. Здесь приводятся только краткие малоизвестные биографические сведения о епископах, характеристика же их деятельности в Туркестанской православной епархии уже освещена в публикациях высокопреосвященного Владимира.
- ЦГИА России, ф.796, оп.442, д.1109. л.7.
- ЦГИА России, ф.799, оп.29, д.490.
- Съезд духовенства железнодорожных церквей, 1907. Туркестанский сборник. т. 448.
- Туркестанские епархиальные ведомости, 1909, № 14.
- Туркестанские епархиальные ведомости, 1912, № 22.
- ЦГА РУз. ф.1010, оп.1, д.4, л.54.
- Поповский М.А. Жизнь и житие Войно-Ясенецкого — епископа и хирурга // Октябрь, — 1990, № 2.
- Благовест-инфо, № 36. 28 мая — 3 июня 1996.
- Юнусова А.Т. Развитие государственного правового регулирования свободы совести. Автореферат канд. юр. наук — Ташкент, 1993.
- Кощанов Б., Сейтназаров М. Революция? Вторжение? События в Хивинском ханстве (1919-1920 гг.) — Нукус, 1997.
- Поповский М.А. Жизнь и житие Войно-Ясенецкого — епископа и хирурга // Октябрь, — 1990, № 3.
- Одинцов М. Хождение по мукам // Наука и религия. — 1990, № 7.
- Сталин И.В. Головокружение от успехов (к вопросам колхозного движения). Соч. т.12, М., 1952.
- Койчуев Т., Мокрынин В., Плоских В. Кыргызы и их предки. — Бишкек, 1994.
56-а. Владимир, архиепископ. Юбилей Епархии // Слово жизни, 1996, № 130.
- Журнал Московской Патриархии. — 1946, № 10.
- Элебаева А.Б. Межэтнические отношения в постсоветских государствах Центральной Азии: динамика развития. — Бишкек, 1996.
- Поповский М.А. Жизнь и житие Войно-Ясенецкого — епископа и хирурга // Октябрь, — 1990, № 4.
- ЦГА РУз, ф.2456, оп.1, д.153, л.23.
- ЦГА РУз, ф.2456, оп.1, д.304, л.4.
- Законодательство о религиозных культах. — М., 1970.
- Правда Востока, 1989, 27 июля.
- Пак Б. Потомки страны белых аистов. — Ташкент, 1990.
64-а. В Узбекистане имеется еще ряд не прошедших регистрацию религиозных общим, в том числе старообрядческая. Всесоюзной церкви верных и свободных адвентистов седьмого дня и др.
- Народное слово, 1996, 12 ноября.
65-а. В состав Духовно-административного центра входят: здание общины, здание епархиального управления, духовная семинария, новая большая крещальня, большой водосвятный источник и др. Главный архитектор проекта — Б. Хрампронин.
- Бетгер Е.К. Старинные и редкие книги, принадлежащие Государственной Публичной библиотеке // Сб. статей, посвященных 100-летию со дня рождения Е.К. Бетгера. — Ташкент. 1989.
- Иосиф (Еременко), игумен. Русская православная церковь в Казахстане на современном этапе // Казахстан на пути к устойчивому развитию. — Алматы, 1996.
- Из письма Государственной комиссии при Правительстве Кыргызской Республики по делам религий 2 июля 1997 года на запрос Л.И. Жуковой.
[1] Т.н. «Евангелие от Фомы» входит в число апокрифических источников, составленных представителями еретического движения гностиков, которых нельзя отнести к христианству. Авторство апостола Фомы не соответствует действительности. Целью гностиков через составление апокрифов, которым гностиками усваивалось авторство именитых персонажей из истории христианства (апостолы, ученики апостолов и т.п.), было донесение идеи об ущербности материального бытия и необходимости избавиться от «оков материи», в том числе и об ущербности и несостоятельности биологической жизни.
[3] В православном богословии посвящение в священный сан относится не к обрядам, а к т.н. Таинствам Церкви, где предполагается особое действие Бога-Святого Духа, которое сопровождает и наполняет благодатным содержанием священнодействия людей.
[4] Позднейшие исследования про визит Илии, митрополита Гор Ливанских в Советский Союз говорят, что это событие в значительной мере наполнено мифологией и околоцерковными легендами. В том числе сомнительно и то, что по просьбе митрополита Илии «выпустил священников из тюрем»
[5] Сведения приводятся на 1997 год.
[6] Ташкентское Духовное училище закончило свое существование в 1999 году, поскольку в 1998 году была учреждена Ташкентская Православная Духовная семинария – высшее религиозное учебное заведение, занимающееся подготовкой священно- и церковнослужителей для епархий Среднеазиатского митрополичьего округа и других епархий Русской Православной Церкви.
